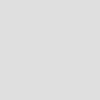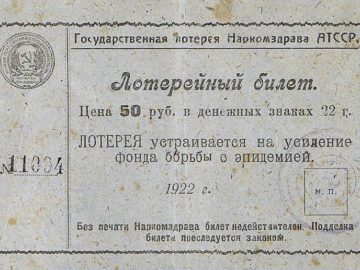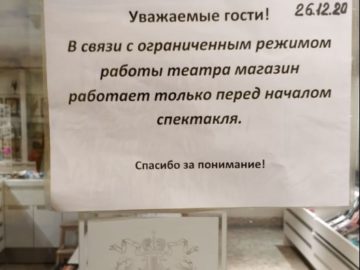Максим Рубченко, редактор отдела экономики журнала «Эксперт»
Олег Краснов, автор «Эксперт Online», «Эксперт»,
«Эксперт» №13 (699)/5 апреля 2010
В ближайшие годы количество учреждений, оказывающих социально значимые услуги в России, резко сократится, а главной целью их деятельности станет повышение рентабельности. Как показывает опыт, населению при этом придется несладко

В Канаде такую политику называют неоконсерватизмом, в США — вашингтонским консенсусом, в Великобритании — тэтчеризмом, а в широком международном контексте она известна как «экономические реформы, проводимые по рекомендациям Международного валютного фонда».
Джейн Джекобс. Закат Америки. Впереди Средневековье
Россия стоит на пороге новой социальной революции: 7 апреля Государственная дума планирует одобрить во втором чтении правительственный законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием правового положения государственных (муниципальных) учреждений», уже вызвавший немало горячих споров (см. «О готовящейся бомбе» [1], «Эксперт» № 10 за 2010 год). Напомним, что документ предусматривает разделение всех существующих сегодня бюджетных учреждений на три категории: казенные, бюджетные и автономные. К категории казенных учреждений, «статус которых по сути совпадает с закрепленным в действующем законодательстве нынешним статусом бюджетного учреждения», будут отнесены воинские части и подразделения силовых структур, исправительные учреждения, психбольницы и т. п. Главная особенность казенных учреждений — полный запрет на коммерческую («приносящую доход», в терминологии документа) деятельность.
Для учреждений, отнесенных к категории бюджетных, главным изменением, напротив, станет расширение полномочий в финансово-хозяйственной деятельности: со сметного финансирования они будут переведены на субсидии, смогут свободнее распоряжаться своим имуществом. Плюс к тому бюджетному учреждению разрешается заниматься приносящей доход деятельностью (в том числе сдавать в аренду недвижимое имущество) и весь доход от этой деятельности оставлять в своем распоряжении. Правда, при этом отменяется субсидиарная ответственность государства по обязательствам таких учреждений.
Автономные же бюджетные учреждения переводятся на функционирование в рамках положений Закона 2006 года № 174−ФЗ «Об автономных учреждениях», то есть фактически на самоокупаемость.
Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, он «направлен на повышение эффективности предоставления государственных и муниципальных услуг при сохранении расходов бюджетов на их предоставление». Необходимость реформ там же объясняется тем, что «существующая в Российской Федерации система бюджетных учреждений до сих пор функционирует в отрыве от современных подходов к развитию государственного управления, от принципов оптимальности и достаточности государственных и муниципальных услуг… При этом общее количество учреждений, входящих в бюджетную систему, весьма велико — на федеральном уровне по состоянию на 1 апреля 2009 года насчитывалось 25 287 учреждений, на региональном и муниципальном уровнях по состоянию на 1 января 2009 года — 302 660 учреждений». Кроме того, по оценке разработчиков законопроекта, «в 2008 году из 9997 федеральных бюджетных учреждений, оказывающих государственные услуги юридическим и физическим лицам, 3786 учреждений (37,9% от их общего числа) имели долю доходов от приносящей доход деятельности в общем объеме их финансового обеспечения более 40%, в том числе 1030 учреждений полностью финансировались за счет таких доходов». Искушение урезать таким счастливчикам бюджетное финансирование оказалось для чиновников непреодолимым.
Большим тоже тревожно
Очевидно, что предполагаемые изменения в наименьшей степени коснутся структур, которые будут отнесены к казенным учреждениям. Что же касается будущих «бюджетников», то они оценивают новый закон, скорее, позитивно, главным образом из-за обещанной возможности более свободно распоряжаться деньгами. «Сейчас мы имеем смету, по которой выделяются деньги, жестко классифицированную по кодам бюджетной классификации, и очень сложно, скажем, в порядке оперативного управления тратить деньги из одной статьи на расходы, предусмотренные другой статьей, это уже фактически нецелевое использование, — объяснил в эфире телеканала “Эксперт ТВ” президент Российской государственной библиотеки Виктор Федоров. — Теперь финансирование, как говорят, будет по субвенции и будет выделяться по основным направлениям: на содержание здания и помещения, на основную деятельность. Плюс к этому у нас появляется возможность сохранить зарабатываемые нами деньги». Правда, при этом г-н Федоров выразил опасение, что авторы реформы не стремятся «честно выполнять те договоренности, о которых они сейчас говорят», собираясь «выдать субвенции на уровне бюджета кризисного 2010 года и потом давать эти субвенции десять лет».
Действительно, в законопроекте зафиксировано, что «первоначальные нормативы определяются… исходя из размера бюджетных ассигнований, предоставленных федеральному бюджетному учреждению в 2010 году». Такой подход вызывает серьезное беспокойство у всех учреждений — будущих «бюджетников». «Наш бюджет 2010 года составил 50 миллионов рублей. В 2009−м он был почти на три миллиона больше, но кризис дает о себе знать, — рассказывает директор Российской государственной детской библиотеки Галина Кисловская. — Самая существенная статья наших расходов — заработная плата (47 миллионов рублей), при этом средняя зарплата основного персонала, то есть библиотекарей, всего 15 тысяч. Далее в порядке убывания: расходы на комплектование, коммунальные услуги, услуги по содержанию имущества и прочие. Это самые капиталоемкие статьи расходов. Если, получив новый правовой статус, библиотека будет иметь такой же лимит бюджетных обязательств, как сейчас, она едва ли сможет решить проблемы, связанные с реконструкцией. Между тем библиотека была введена в эксплуатацию в 1986 году, а отсюда вытекают все насущные задачи по реконструкции, замене инженерных коммуникаций, мебели».
Будучи уверенными, что любую пакость, которую может сделать российский чиновник, он обязательно сделает, «бюджетники» видят в новом законопроекте еще одну опасность. «Если относиться к этому документу непредвзято, то учредитель должен будет по нормативам содержать свою собственность, то есть здание и особо ценное имущество, а также финансировать муниципальный заказ на основании перечня муниципальных услуг, — рассуждает директор Егорьевского историко-художественного музея Наталия Артемова. — Так как музейный фонд объявлен особо ценным имуществом, то на хранение, реставрацию, поддержку температурно-влажностного режима, обработку и прочее также должны выделяться бюджетные средства. Мероприятия (проведение выставок, образовательных программ, социальная работа) тоже должны финансироваться из бюджета. Даже если учредитель из-за отсутствия средств не даст музею муниципального задания на его услуги (то есть не профинансирует выставки, тематические вечера, исследовательскую работу), он обязан будет содержать свое имущество. Но в этот механизм заложена ловушка: при определении норматива на последующие годы при увеличении доходов музея от платных услуг нормативы финансирования будут уменьшаться на сумму дополнительной прибыли. Таким образом, чем больше будет стараться заработать музей, тем меньше денег из бюджета он будет получать. При разработке норматива учредитель всегда будет отталкиваться от текущей сметы расходов, для которой характерно недофинансирование, а значит, норматив не будет отражать действительных потребностей музея».
Но даже если новый порядок финансирования будет закрывать потребности текущей деятельности, то вопрос инвестиций в развитие социально ориентированных учреждений остается темным. «В век информационных технологий необходимо пересмотреть лимиты, выделяемые на связь, — уверена Галина Кисловская. — Нынешние лимиты учитывают только старые потребности в поддержании традиционной телефонной связи и не покрывают наших справедливо растущих аппетитов на расходы по работе в интернете. Сегодня интернет-технологии не используются библиотеками не в последнюю очередь потому, что библиотеки считают каждый рубль, потраченный на связь. Кстати, использование мобильной связи для развития новых сервисов (как, например, в библиотеках Сингапура) тормозится по этой же причине. А между тем выросло поколение новых пользователей, для которых виртуальные сервисы гораздо важнее традиционных, физических. Соответственно, затраты на выполнение государственного задания, связанного с работой блогов, форумов, использованием мгновенных сообщений и прочих атрибутов пользовательскоцентричной направленности, связаны с затратами на связь. Но гораздо сложнее определиться с нормативами затрат времени сотрудников, которые работают в новых сервисах: являются модераторами блогов, поддерживают работу форумов и гостевых книг и так далее. Мы в РГДБ уже столкнулись с этой проблемой, когда стали активно работать в “Одноклассниках”, “Вконтакте” и других социальных сетях. Старая модель библиотеки довольно хорошо укладывалась в схему расчета нормативов. С новой будут сложности. И вообще, культура очень плохо поддается расчетам».
Автономное выживание
Однако больше всего пострадают от нового порядка учреждения, которые будут зачислены в категорию автономных, — в первую очередь речь идет о небольших школах, больницах, библиотеках, музеях и т. п. К сожалению, практически все представители этой категории наотрез отказались комментировать данный законопроект, вероятно, рассудив, что, когда решается вопрос о том, в какую категорию будет зачислено твое учреждение — «бюджетную» или «автономную», лишняя разговорчивость может сильно навредить. Исключением стал лишь директор одной из московских школ, разразившийся гневным монологом: «Если коротко: отмену бюджетного финансирования безумцы какие-то придумали. Они еще не знают, как жить в стране без медицины, так пускай съездят на Украину. А страны без образования я вообще не знаю — наверное, где-то в Африке такие есть. Я недавно читал старые статьи Лескова (“Иродова работа” и другие) про то, как генерал-губернатор Риги закрыл все старообрядческие школы, — дело было на излете Николая Первого, в годах 1848–1849. Через десять лет старообрядческая молодежь победнее поголовно занялась карманными кражами (мальчики) и проституцией (девочки, отчасти и мальчики). Губернатор велел ловить их на улицах и отдавать в кантонисты — это такой гибрид между штрафбатом и колонией для несовершеннолетних, выпускали оттуда рядовыми в армию, как рекрутов. Если авторов этого законопроекта не запрут в “дурку”, то прошу в ходе военной реформы предусмотреть создание батальонов кантонистов. К слову, про регулирование образовательной отрасли. Нам тут звонили из приемной замглавы московского департамента образования и сказали, что весь департамент озабочен тем, возьмем мы некую дочку важного лица в физическую школу или нет. Видимо, все остальные вопросы уже решены».
Старшие товарищи, «бюджетники», о будущей судьбе младших, «автономщиков», рассуждают с искренним сочувствием. «У маленьких библиотек гораздо более сложная ситуация, — говорит Виктор Федоров. — Потому что у чиновников, особенно в слабых в экономическом смысле регионах и муниципальных образованиях, появляется лишняя возможность в очередной раз оптимизировать свои бюджетные расходы. Когда основным критерием становится не понимание необходимости иметь у себя библиотеку, а наличие денег, то чаще всего получается так, что денег нет. А новый закон дает чиновнику лишнюю возможность закрыть эту библиотеку. Вот почему, кстати говоря, добровольный процесс перехода в автономное учреждение шел чрезвычайно вяло».
Напомним, что Закон «Об автономных учреждениях», разрешивший добровольное преобразование бюджетных учреждений в автономные, был принят еще в 2006 году. Однако за время его действия на федеральном уровне было создано только четыре автономных учреждения. На региональном уровне автономные учреждения появились только в самых богатых субъектах федерации, таких как Тюменская область, Красноярский и Краснодарский края, Республика Татарстан, где региональные власти могли обеспечить им достаточный для выживания объем бюджетного заказа. Причем и здесь не все обошлось гладко. «Как показывает опыт городов, которые перевели свои учреждения в автономные, чиновники сразу создают множество инструкций, которые сводят на нет всю автономию учреждения, — утверждает Наталия Артемова. — Тем более что очень часто гражданский, бюджетный и налоговый кодексы имеют расхождения и путаницу в терминологии, и это позволяет чиновникам трактовать закон об автономных учреждениях как угодно». Неудивительно, что добровольный порядок преобразования бюджетных учреждений в автономные правительству пришлось сменить на принудительный.
Больше по размеру, меньше по количеству
Самым очевидным результатом претворения в жизнь положений нового законопроекта станет укрупнение учреждений социальной сферы при сокращении их количества. В первую очередь это коснется учебных заведений. «В системе образования существует норматив: на одного ребенка из бюджета положена энная сумма денег, — объяснил в эфире телеканала “Эксперт-ТВ” директор центра образования “Царицыно”, народный учитель России, член Общественной палаты РФ Ефим Рачевский. — В Москве больше, в Пензенской области меньше, в Воронежской еще меньше, в Ханты-Мансийске больше. Подушевое нормативное финансирование привело, в частности, к тому, что школа в крупном мегаполисе, в которой учится меньше пятисот детей, становится нерентабельной. И тогда, к сожалению, ее приходится закрывать и перепрофилировать, например, в учреждение системы допобразования — это то, что раньше называлось Домами пионеров, а сегодня — Домами детского творчества». Отметим, что поскольку «допобразование» — удовольствие по большей части платное, выгода для бюджета от такого перепрофилирования бесспорна.
А вот чем оборачивается подобное «повышение эффективности» для граждан, прекрасно описано в недавно вышедшей у нас книге американского социолога Джейн Джекобс с красноречивым названием «Закат Америки. Впереди Средневековье»: «С началом “рейганомики” родители стали рыскать по объявлениям в поисках тех немногочисленных субсидируемых мест для ребенка, которые они могут себе позволить финансово и до которых могут добраться в разумное время. На Восточном побережье США время, затрачиваемое женщинами на поездки по маршруту дом — детское учреждение — работа занимало в 2004 году до шести часов в оба конца, что привело к возникновению термина bus-moms — “автобусные мамы”. Одновременно засыпание за рулем сравнялось с ездой в пьяном виде как причина дорожных происшествий со смертельным исходом».
Отдельного разговора заслуживает судьба медицинских учреждений. В принципе новый законопроект (вместе с последними инициативами правительства в сфере обязательного медицинского страхования) однозначно ориентирует здравоохранение на американскую модель — «платная медицина и медицинская страховка у каждого» (в теории). Но это именно та модель, которую сегодня пытается разрушить президент Обама, потому что она показала свою неэффективность даже в стране, где эффективность возведена в фетиш. Сегодня при огромных затратах на здравоохранение (свыше 16% ВВП, почти в два раза больше, чем у других развитых стран) доступность медицинских услуг в США весьма ограничена, медицинские услуги непомерно дороги, а врачей на душу населения меньше, чем в большинстве развитых европейских стран (см. статью «Обамова победа» [2] в прошлом номере «Эксперта»).
Причина такого удручающего положения — самоокупаемость медицины, при которой для больницы оказывается выгодно не лечить больного, а обследовать его. Поэтому пациенту, обратившемуся к врачу с самым пустяковым недугом, назначается полный набор анализов и обследований, за каждое из которых приходится платить немалую сумму. Прямым следствием этого является постоянное подорожание медицинских страховок и, как результат, сокращение числа граждан, имеющих такую страховку, то есть доступ к услугам здравоохранения. Зато в этих условиях, не напрягаясь, зарабатывают миллиарды долларов в год страховые компании и крупные медицинские корпорации. Американцы такую систему сегодня пытаются сломать, а мы — построить.
Конечно, у нас ситуация, когда любого платежеспособного пациента до посинения гоняют по анализам и обследованиям, сегодня кажется фантастической — в подавляющем большинстве российских медицинских учреждений просто нет для этого технических возможностей. Однако опасность не стоит недооценивать, ведь прецеденты уже имеются. Так, по свидетельству жителей Калининграда, в этом регионе были закрыты все роддома (числом 16), когда был построен один Перинатальный центр, «оснащенный по последнему слову техники» (этот прорыв в здравоохранении вошел в число основных претензий населения к губернатору Боосу во время памятных митингов в Калининграде). Так что схема развития событий достаточно понятна: существующие сегодня больницы и поликлиники будут заменяться современными медицинскими центрами (из расчета один новый центр вместо десяти-двадцати нынешних медучреждений), которые будут работать на принципах полной самоокупаемости. Тут вам и выполнение нацпроекта «Здоровье», и экономия бюджетных средств, и экономический либерализм в одном флаконе.
Впрочем, результаты новой бюджетной реформы в сфере здравоохранения и образования проявятся только через несколько лет. А вот где мы ощутим эффект от нововведений очень быстро — так это в сфере общественного транспорта. Во всяком случае, как сообщает Джейн Джекобс, именно так было в Канаде в 1990−х, когда властями Торонто тоже овладела идея «для повышения эффективности» перевести львиную долю бюджетных учреждений на самоокупаемость. «Чтобы свести концы с концами, система общественного транспорта сократила объем услуг и подняла тарифы на проезд, — пишет Джекобс. — Стало хронически не хватать средств на то, чтобы содержать и ремонтировать оборудование и гибко реагировать на увеличение городского населения и его занятости. С целью экономии сократилось количество “неэффективных” маршрутов и дневных поездок транспорта, в результате метро, трамваи и автобусы стали чудовищно переполнены, а проблемы занятости обострились, поскольку транспортные коммуникации между районами нарушились. Общественный транспорт попал в порочную спираль ухудшения обслуживания, спада качества управления при одновременном росте стоимости проезда».
Нужно потренироваться
Опасности новой либеральной реформы в бюджетной сфере отчетливо понимают и многие депутаты (против законопроекта в первом чтении проголосовали все, кроме единороссов), и специалисты. Поэтому Общественная палата в заключении по законопроекту высказала целый ряд требований к законодателям. В частности, по мнению ОП, необходимо «существенно изменить логику и этапность реформы, и прежде всего продлить переходный период, позволяющий бюджетным учреждениям действовать в прежнем правовом режиме как минимум до 1 июля 2012 года». До этого, в течение 2011 года, реализовать в ряде регионов пилотные проекты по реформированию бюджетных учреждений и по результатам этого эксперимента внести в закон и связанные с ним подзаконные акты необходимые коррективы. Кроме того, Общественная палата требует включить в законопроект пункт, предусматривающий обязанность властей до вступления закона в действие разработать и законодательно зафиксировать «рациональные нормативы затрат на оказание услуг, предоставляемые бюджетными организациями на бесплатной основе». Речь идет о точной сумме, которую федеральные, региональные и местные бюджеты должны расходовать на каждого ученика в школе, на каждого пациента в больнице и т. д. Причем должны быть разработаны и зафиксированы на длительный срок точные методики индексации таких нормативов в зависимости от темпов инфляции и других макроэкономических параметров.
Реализация предложений Общественной палаты может существенно снизить риски «повышения бюджетной эффективности». Но при этом экономия бюджетных средств в ближайшие два года окажется значительно меньше, чем рассчитывают чиновники. Так что можно твердо прогнозировать, что Минфин будет яростно бороться против внесения изменений в законопроект. Чье мнение победит, станет известно 7 апреля.